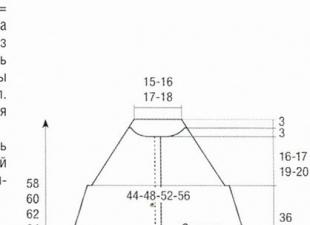Я ничего не знаю про американских усыновителей. Зато знаю кое-что про шведских, а в контексте "продажи наших собственных детей за границу" это в принципе одно и то же. Так вот, мне посчастливилось в течение нескольких лет поработать переводчиком у шведов, приезжавших сюда усыновлять детей. И ни один вид деятельности ни до ни после не приносил мне такого удовлетворения и ощущения нужности и важности того, что я делаю. Прошло больше десяти лет, а я до сих пор помню почти все супружеские пары, с которыми довелось работать. И всех вспоминаю с теплом и благодарностью.
Ванечка
Больше всего, естественно, запомнились первые - Кристина и Юхан, высокие, красивые люди, обоим около сорока. Они привезли в подарок дому малютки кучу памперсов, игрушек и конфеты для персонала. Я вела их по облупленным, пропахшим старьем коридорам Серпуховского детского дома, и от стыда вжимала голову в плечи. В детдом я попала впервые.
Нас проводили в большую комнату, уставленную детскими кроватками. В них лежали младенцы в посеревших ползунках. На полу, на горшке сидел малыш постарше и равнодушно взирал на нас снизу вверх. Напротив ребенка на детском стульчике примерно в такой же позе, как он, сидела нянечка и буравила малыша мрачным, полным решимости взглядом. Было ясно, что, не удовлетворив ее ожидания, с горшка ребенок не сойдет. Несмотря на большое количество детей, в комнате стояла мертвая тишина. Казалось, ни у нянечки, ни у детей просто не было сил издавать звуки. Позже мне рассказали, что дети в детдомах практически не плачут - зачем? все равно никто не придет.
Мы подошли к одной из многочисленных кроваток. "А вот и Ванечка!" В кроватке лежал крохотный малыш с не просто бледным, а совершенно голубым лицом ребенка, никогда не бывавшего на свежем воздухе. На вид ему было месяца четыре. Кристина взяла ребенка на руки. Головку Ванечка держал плохо, смотрел безучастно и вообще никакого интереса к происходившему не выражал. Если бы не открытые глаза, его вполне можно было принять за покойника. Медсестра зачитала медицинскую карту: "бронхит, пневмония, курс антибиотиков, еще один курс антибиотиков... У матери сифилис..." Оказалось, что Ванечке ВОСЕМЬ месяцев! "Не жилец..." - подумала я. Кристина склонилась над ребенком и изо всех сил старалась спрятать за его макушкой заплаканные глаза. Она была в шоке от всего увиденного, но боялась своими слезами обидеть нас, граждан великой державы.
По протоколу ребенка следовало отвезти в фотоателье и сфотографировать - в вертикальном положении с поднятой головой и взглядом, устремленным в камеру. Задача казалась невыполнимой. Помню, как я прыгала за спиной фотографа и щелкала пальцами, отчаянно пытаясь хоть на мгновение пробудить у малыша интерес к происходящему. Все было бесполезно - Ванечка на руках у Кристины все ниже клонил голову к плечу, а глаза его все так же безучастно смотрели в сторону. Счастье, что фотограф попался понимающий. Уж не помню, что он такое придумал, но в результате долгих мучений фото все же было сделано: голова на боку, но по крайней мере глаза смотрят в объектив. И на том спасибо.
Мне было страшно жалко Кристину и Юхана, жалко их надежд, времени, сил, денег. "Ольга, ребенок безнадежный. Неужели они не понимают?" - рапортовала я в тот же день руководителю центра усыновления. Нет, они не понимали. Поставив галочки и подписи во всех необходимых документах, они через месяц приехали снова - теперь уже для того, чтобы забрать Ваню с собой. Ему было уже больше девяти месяцев, но на вид он был все такой же - бледный, вялый, маленький, неподвижный, молчащий. "Безумцы", - снова подумала я. А по дороге в аэропорт Кристина позвонила Ольге: "Ваня поет! Послушай!" В трубке раздалось тихое мяуканье. Ванечка гулил, впервые в жизни.
Через год они прислали фотографии с Ваниного дня рождения. Узнать в карапузе, уверенно стоящем на пухлых ножках, прежнего доходягу было совершенно невозможно. За год он догнал своих сверстников и ничем (во всяком случае, внешне) от них не отличался.
Это не сусальная история со счастливым концом. Я не знаю, как сложилась и сложится Ванина дальнейшая судьба и к каким необратимым последствиям приведут первые 9 месяцев жизни, проведенные им в детском доме. И все-таки... своей жизнью он обязан не родине, а бездетной паре из Швеции, не побрезговавшей ребенком с отставанием в развитии, сыном проститутки-сифилитички. И эти шведы, "купившие нашего ребенка", никогда не назовут его своей собственностью. Кстати, они собирались, когда Ваня подрастет, непременно привезти его в Россию - ребенок, по их мнению, должен знать, откуда он родом.
Танюха
Анна и Ёран привезли с собой трехлетнего Виктора, усыновленного полтора года назад. «Виктор, зачем мы приехали в Россию?» - спросила Анна, представляя его мне. - «Чтобы познакомиться с моей сестренкой!» Шведская речь в устах этого малыша с нижегородско-вологодской внешностью звучала как-то противоестественно. Я так и не смогла привыкнуть к тому, что он совсем не помнит своего родного языка, даже попыталась как-то заговорить с ним по-русски. Он взглянул на меня с изумлением.
Путь наш лежал в Вологду, именно там обитала «сестренка» Таня. Прибыв в пункт назначения ранним утром, мы первым делом отправились в гостиницу. После ночи в поезде все чувствовали себя разбитыми, особенно Виктор. Хотелось передохнуть, прежде чем отправляться в дом малютки. Тем более что впереди ждал еще один ночной переезд - обратно в Москву. В нашем распоряжении было часов восемь. Да больше и не надо. Познакомиться с девочкой, перекусить, уложить Виктора днем поспать - и все, можно в обратный путь.
В гостинице нас поджидал первый сюрприз. «А вы своих иностранцев зарегистрировали в милиции?» - огорошила меня вопросом барышня на ресепшене. «Послушайте, мы здесь меньше чем на сутки, вечером уезжаем. Номер нужен только для того, чтобы ребенок мог отдохнуть», - попыталась возразить я. «Ничего не знаю. У нас иностранных гостей полагается регистрировать. Иначе не заселю, не имею права».
Оставив чемоданы в вестибюле, мы ринулись в милицию. Беготня по улицам чужого города в поисках такси, затем - по коридорам отделения милиции, затем в поисках кафе, чтобы накормить оголодавшего ребенка, затем снова перепалка с барышней на ресепшене, которой что-то не понравилось в иностранных паспортах... После трех часов нервотрепки мы, наконец, побросали чемоданы в номер и совершенно измотанные отправились на встречу с «сестренкой».
В доме малютки нас встретили не более любезно, чем в гостинице. «Скажите вашим шведам, что русские усыновители у нас рассматриваются вне очереди. Если в ближайшее время появится русская пара, она и получит девочку», - мрачно буркнула мне важная дама в белом халате. «Почему же вы только сейчас об этом говорите? - вознегодовала я. - Предупредили бы раньше, мы бы к вам не поехали. У вас полон дом сирот, зачем устраивать нездоровый ажиотаж вокруг одной девочки? Предложите другой паре другого ребенка.» - «Ладно, пусть идут знакомиться, раз уж приехали», - снизошла дама в халате. Мне показалось, что я ее убедила и теперь все будет хорошо.
Вологодский дом малютки был полной противоположностью серпуховскому. Уютное чистенькое здание, светлые комнаты со свежим ремонтом. Дети ухоженные, крепкие. День был летний, солнечный. Мимо нас на прогулку прошествовала вереница карапузов с ведерками и лопатками. Многие были босиком! «Закаляем, - сказала медсестра. - Чтоб зимой меньше болели».
Полуторогодовалая Танюша оказалась черноглазой красавицей, кровь с молоком. Когда мы вошли в комнату, она сидела за столиком и кормила куклу с ложечки. Я и моргнуть не успела, как Ёран уже стоял перед Таней на четвереньках, а она с королевским видом тыкала ему в рот кукольную ложку и смеялась. «Эмоциональный контакт установлен», - вспомнилась мне формулировка из протокола, заполнявшегося каждый раз после знакомства усыновителей с ребенком. «Он давно мечтал о дочке», - шепнула Анна. Сама она, стоя с Виктором на руках, слушала медсестру, зачитывавшую нам историю развития. Танюха была практически здорова. В ее карте не значилось ни одного курса антибиотиков, ни одного бронхита и вообще ничего серьезного - случай для дома малютки просто исключительный.
Ёрану танюхина медицинская карта была совершенно неинтересна. Поев вместе с куклой, он усадил девочку на колени, и они вместе начали рисовать. Потом - играть в прятки. Не знаю, сколько это могло бы продолжаться, но Виктор, измученный мытарствами дня, поднял такой рев, что нам пришлось срочно покинуть помещение. «Пожалуйста, не предлагайте Танюшу другим усыновителям», - нижайше попросила я на прощание даму в белом халате.
В машине Виктор немножко успокоился и снова вспомнил о цели своего приезда.
- «Папа, а где же сестренка?»
- «Сестренка осталась в детском доме». У Ёрана горели глаза, он помолодел лет на десять.
- «А почему она не поехала с нами?»
- «Потерпи. В следующий раз мы заберем ее с собой».
- «Скоро?»
- «Да, малыш, скоро. Теперь уже совсем скоро».
На следующий день они улетели домой, а через месяц я узнала, что органы опеки отказали Анне и Ёрану в усыновлении Тани. Нашлась русская пара, пожелавшая принять ее в свою семью. Удивительное совпадение: полтора года не находилась, а тут вдруг - раз, и нашлась. Уж не знаю, чем это объяснить. То ли случайностью, то ли патриотичностью вологодских чиновников, то ли жаждой показать иностранцам кукиш в кармане. Последнее, во всяком случае, им удалось на славу.
Взял приемного ребенка? В Москву!
Размер пособия на приемного ребенка в Москве сейчас 17-22 тысячи, также платится вознаграждение приемному родителю — чуть более 13 тысяч на каждого ребенка. Но Москва — единственный город, который платит столько. Сюда сейчас приехали даже те, кто раньше не хотел приезжать. Приехали и такие, кто родных старших детей оставили у себя на месте, а с 8-10 приемными детьми приехали в Москву. Набрать детей побольше, даже если они не инвалиды — это пособие почти полмиллиона в месяц! При том, что одежду и обувь можно купить за копейки, в Москве есть достаточно дешевые магазины.
Есть не один случай, когда такие семьи покупали очень неплохие коттеджи — это больной вопрос. За прошлый год Москва достала 1.6 млрд. рублей из каких-то широких штанин на пособия. Но город, как любой субъект, имеет ограниченный бюджет. Если в прошлом году деньги нашлись, то это не значит, что найдутся и дальше такие же деньги. И что-то с этим надо делать именно на федеральном уровне.
Не сошлись характерами? Возвращаем в детский дом!
У нас в стране есть приверженцы разных позиций, где лучше воспитывать ребенка: в приемной или реабилитированной кровной семье. Есть такие же полярные мнения по возврату детей в детский дом. Деточка плюет в глаза, убегает, врет, ворует — нет, все равно, тяни до 18 лет! Хоть убейся, но отдать детей обратно в детский дом не смей!
Есть и другая позиция, совершенно крайняя — не сошлись характерами — обратно в детдом! Гробить свою жизнь ради сиротки? Ради чего? Чтобы потом медаль на шею? Это не нужно никому! Обществу нужен нормальный полноценный человек. Когда сирота возвращается в детдом, он делает хоть минимальную, но все-таки работу над собой, задумывается над тем, почему его вернули. Понятно, что приемные родители — сволочи последние, вернули ребенка в детдом. Но в глубине души сирота себе врать не будет, в глубине души он понимает, что вернули-то его правильно. И, попадая в новую семью, он уже знает: буду вести себя так же — и эти меня вернут. Или я что-то поменяю в себе — и вот тут уже будет семья, любовь и счастье.
Хочу только в Москву!
Дети в детдомах последние года 3 живут на уровне царей — у них дом со слугами, набитый всем. К ним приходят послы — спонсоры с айфонами и т.д. А сотрудники не могут своим детям купить шоколадку. Если раньше можно было понять, что в классе есть сирота по тому, что он плохо одет, то теперь сирота — это самый упакованный ребенок с самым дорогим портфелем и айфоном.
Многие волонтеры прошли весь путь заваливания подарками бедных сироток: посылки с конфетами, кроссовками, мячами — в итоге у детдомовцев по семнадцать праздников на Новый год. Машина подарков — это самое ужасное, что можно придумать! Это не помощь, это откуп. Это индульгенция. Волонтеры едут в детский дом и покупают эту дешевую радость. Но даже если они приедут туда второй раз, они не найдут ничего: айфон и кроссовки будут проданы. И хорошо, если деньги уйдут на чипсы, а не на наркотики.
Сейчас есть очень интересная тенденция: во многих сельских и немосковских детдомах в личных делах детей лежит отказ от устройства в семьи, кроме Москвы. С 10 лет ребенок сам может написать такой отказ от устройства в семью с некоторыми оговорками. И дети четко пишут: нам деревня не нужна и семья не нужна. Нам нужна Москва, кошелек, дворец и платиновая карточка. Бывает, приходит усыновитель из Москвы, но у него всего лишь 3-комнатная квартира — нет, спасибо, не надо!
В попытке облегчить жизнь сиротам мы сделали их иждивенцами. Иждивение чудовищно и край этого иждивения — это отказ от приемных семей. Сироты сейчас — это очень хорошо материально обеспеченные члены общества.
Что после детского дома?
После выпуска из детдома обычно ребята устраиваются в колледжи. В колледже они могут бесплатно учиться 2 раза — заканчивают один колледж, идут во второй. В зависимости от региона им выплачивается пособие примерно 20 тысяч рублей. В большинстве регионов, в том числе и в Москве, им дают квартиры.
Если сирота после получения одного или двух своих образований, ни дня не работал и встает на биржу, то в течение года биржа труда в Москве платит пособие в размере 60 тысяч рублей. В Белгороде — 23 тысячи при средней зарплате в 7 тысяч.
На самом деле, подход к теме сиротства меняется каждые 2 года. Многие уже пришли к осознанному волонтерству, к умной помощи: вкладывать надо в знания и навыки сироты, в то, что поможет ему выжить — это тренировочные квартиры, это репетиторы, это программы личностного роста.
Что такое тренировочные квартиры?
Тренировочной называется квартира, в которой поселяются сотрудник детского дома и 5 выпускников. Обычно это съёмная 5-комнатная квартира. К ним приходят волонтеры, которые дают им какие-то навыки: профессиональные повара учат готовке, швеи учат шить. Они живут в квартире, в которой нет уборщицы, нет повара в столовой. Они все делают сами, сами ходят в магазин за продуктами. К примеру, у них задача прожить на 150 рублей. Их пятеро, и у каждого 150 рублей. Или они скинутся и купят курицу, или купят чипсов и слягут с проблемами в желудке. И каждый вечер за чаем они обсуждают, как они эти 150 рублей умудрились потратить. К примеру, какие молодцы Маша с Дашей, которые объединились и купили курицу и 2 морковки.

Мой любимый дом
У фонда «Река детства» есть проект «Мой любимый дом». Когда выпускник детдома получает однокомнатную квартиру, или возвращается в так называемое «закрепленное жилье» — квартиру, где он жил до детского дома.
Задача фонда — подхватить, поддержать выпускника в этот сложный момент, помочь «вжиться» в свой дом, захотеть в нем жить и полюбить его, ведь многие из них боятся самостоятельной жизни: квартиры сдают, живут по 5 человек, и ничего хорошего из этого НИКОГДА не выходит.
Денег на обустройство жилья государство не выделяет. Выпускники-сироты получают по выходу из учреждения 24 тыс. рублей, при этом на счету у кого-то накопились какие-то деньги (если родители платили алименты или была пенсия по потере кормильца), у кого-то нет ничего или почти ничего.
Условие для «входа» в проект — либо помощь с ремонтами в квартирах других участников, либо участие в проекте «Мостик» — это помощь одиноким старикам. Это важно, потому что за время пребывания в сиротском учреждении ребята так привыкают к тому, что им все помогают и все должны, что психология потребителя становится доминирующей в их отношениях с жизнью. И тогда с ними сложно работать на долгосрочной основе, а ремонт — дело не быстрое — у волонтеров временной ресурс ограничен. Привлекая ребят к помощи другим, волонтеры выявляют тех, кто надежен и ребята усваивают правило «получать-отдавать».
Во время учебы выпускник живет на стипендию в 12 тысяч рублей и, если у него нет других денег, фонд берет на себя задачу по привлечению ресурсов для ремонта в квартире. Если какие-то деньги есть, фонд договаривается о степени денежного участия.
Волонтеры помогают придумать цветовое решение и расстановку мебели в квартире, разобраться с обоями, поменять линолеум или ламинат, иногда положить плитку и т.д. В этих работах всегда участвуют другие ребята — потенциальные, а иногда и состоявшиеся участники проекта.
У Фонда «Река детства» немного проектов, но они все работающие, они все построены на умной помощи.
Рассказывает Людмила Петрановская , педагог и психолог, много лет работающая с детьми из детских домов, с приемными родителями, с сотрудниками сиротских учреждений и службы опеки, учредитель Институт развития семейного устройства.
Текст эмоционально тяжелый, заранее предупреждаю! Не хотите портить себе настроение - проходите мимо... Хотя я бы советовала прочитать всем родителям, чтобы лучше понять, что нужно ребенку для того, чтобы вырасти счастливым.
Детский дом — это система, в которой у ребенка не возникает привязанности, отношения к своему значимому взрослому. А человеческие существа так устроены, что их развитие крутится вокруг привязанности. Формирование личности, познания, интереса к миру, любых умений, способностей и всего остального нанизывается на привязанность, как кольца пирамидки на стержень. Если сстержня нет, то пирамидка на вид может казаться обычной до тех пор, пока мы не попробуем ее толкнуть и она легко не рассыплется . Кажется, что ребенок, который растет в детском доме, — ребенок как ребенок. В школу ходит, у него там игрушки, вещи складывает на полочку, в игры играет и так далее. Но вот этого стержня нет. И поэтому, как только детский дом как опалубка снимается, то воля и характер ребенка рассыпаются.
Когда он чувствует защищенность, когда чувствует, что тыл прикрыт, ему все интересно, у него много сил, он многое пробует. Даже если он ударился, испугался, куда-то влез, что-то не получилось, у него все равно есть свой взрослый, к которому он возвращается.
Было подсчитано, что перед глазами ребенка в доме ребенка мелькает за неделю около двадцати пяти разных взрослых. Меняются воспитатели, нянечки, логопеды, медсестры, массажисты — кого только нет. Их там много очень, а привязанность формируется только в условиях, когда у ребенка есть свои взрослые и есть чужие. Нормальный ребенок не позволит чужому человеку, например, подойти и взять его на руки и унести куда-то. Он не поймет, что происходит. Он будет сопротивляться, он будет плакать, ему будет страшно. Он будет искать родителей. А детдомовского ребенка любая чужая тетка может подойти, взять из кроватки и унести куда хочет. Делать, например, ему больно — какую-нибудь прививку. И нет никого, кто бы его от этого защитил, нет никого, кого бы он воспринимал как своих взрослых, за которых он должен держаться, которые не дадут его в обиду. Привязанность избирательна, он не может привязаться к двадцати пяти тетенькам сразу, даже если они обращаются с ним как с ребенком, а не как с кульком.Программа привязанности — это не про любовь-морковь, а про выживание. Это программа, которая позволяет детенышам млекопитающих проходить период беспомощности после рождения. Детеныш все время прикреплен к своему взрослому, который за ним присматривает, который его кормит, который его уносит на себе в случае опасности, который за него дерется, если приходит хищник. Это про жизнь и смерть. Поэтому ребенок, который не находится в ситуации привязанности, — это ребенок, который каждую минуту своего существования испытывает смертный ужас. Не грусть и одиночество, а смертный ужас.
И он, как может, с этим ужасом справляется. Он уходит в диссоциацию — вот в это отупение и ступор. Он уходит в навязчивые действия, когда качается и бьется головой о кровать, о стенку. Он уходит в эмоциональное очерствение. Если у него все душевные силы тратятся на преодоление ужаса, то какое у него там развитие, какое ему дело до того, что мир интересный?
У меня был такой опыт, когда я проводила занятия в одном провинциальном городе для сотрудников сиротских учреждений. Когда мы знакомимся, я прошу людей вспомнить их первое впечатление: вот вы пришли на эту работу, впервые увидели этих детей — что вам бросилось в глаза, что вы запомнили, что поразило, впечатлило? И так получилось, что у нас сначала сидели сотрудники приюта, куда попадают дети, только что отобранные из семьи. А потом сидели сотрудники интерната, куда детей направляют из приюта. И сотрудники приюта стали говорить о попавших к ним детях: они горюют, они скучают, они любят своих родителей — даже самых непутевых, пьющих, они беспокоятся о том, что маме или бабушке никто не помогает. Потом заговорили сотрудники интерната, где дети провели уже много лет. И они рассказывают: детям все равно, они никого не любят, им никто не нужен. Они относятся к людям потребительски, их интересует человек только с той точки зрения, что с него можно получить. Им сообщают, что мать умерла, они говорят: «Хорошо, пенсия будет больше». И случайно так получилось, я этого не планировала, но когда вот этот круг прошел, такая повисла просто тишина…
В систему приходят дети, да, пусть грязные, пусть вшивые, пусть чего-то не умеющие и не знающие, но живые, любящие, преданные, с нормальным сердцем.
А после нескольких лет жизни со сбалансированным питанием и с компьютерными классами они превращаются в нечто пугающее, которым говоришь, что мать умерла, они отвечают: «Хорошо, пенсия будет больше». И в этом главный ужас этой системы.
Следующая проблема — тотальное нарушение личных границ во всех этих детских учреждениях. Там не закрывается ни один туалет, там не закрывается ни один душ. Там нормально, когда трусы лежат в общей коробке на всю группу. Там нормально, когда девочке нужны прокладки, и она должна идти к медсестре на другой этаж об этом просить. Постоянное тотальное нарушение границ, когда тебя постоянно могут повести на какой-то осмотр чужие совершенно люди. Вспоминается какое-то ток-шоу, где разбирался скандал, как в детском доме мужик, сам будучи опекуном, брал мальчиков на выходные из детского дома и домогался их. Не то чтобы насиловал, но приставал. Он запалился на том, что позвал ребенка со двора и тоже к нему полез — семейного ребенка. И семейный ребенок пришел домой в шоковом состоянии, в слезах. Его мама сразу это заметила, стала у него спрашивать, и все это раскрутилось. Детей из детского дома он перед этим брал на выходные два года, и еще один мальчик из детдома у него жил постоянно. Ни разу они не были ни в шоке, ни в слезах. Журналисты берут интервью у директора, она говорит: «Да не может этого быть, да они совершенно не жаловались, каждую неделю их осматривает медсестра, мы бы заметили». Она не очень даже отдает себе отчет в том, что говорит. На самом деле дети живут годами в ситуации, когда любая чужая тетка может в любой момент их раздеть, осмотреть, во все места залезть. Чем их после этого удивит педофил? Ну они не были впечатлены, он все-таки дяденька. Кстати, возможно, он делает это более ласково и бережно, чем медсестра.
Дети постоянно живут в ситуации нарушения личных границ. Естественно, они потом оказываются очень легкой добычей для любого негодяя, потому что не знают, как можно сказать «нет». И насилия очень много внутри детских коллективов, потому что дети не видят в этом проблемы: ну зажали в углу, ну отымели, а что? И конечно, бывает очень трудно тем детям, которые попали в детский дом в более взрослом возрасте из семьи, для них это тяжелейшая травма.
Когда ребенок живет в семье, мы постепенно передаем ему все больше и больше прав по принятию решений . В пять лет ему можно гулять только с нами, в десять можно уже самому, а в пятнадцать он один ездит по городу. В детском доме правила для всех одни, будь тебе четыре года или восемнадцать. Детские дома становятся все более закрытыми, когда внутри корпуса с этажа на этаж можно проходить только по электронным пропускам. Самые дорогие навороченные детские дома устроены как тюрьмы: безопасность, безопасность, безопасность. И для всех распорядок дня с отбоем в девять часов. Дети живут полностью регламентированной жизнью.С одной стороны, у тебя все регламентировано, с другой — за тебя все делают. Там сейчас в моде комнаты подготовки к самостоятельной жизни. Кухня, где учат готовить, например. Но ведь подготовка к самостоятельной жизни не в том состоит, чтобы тебя научили варить макароны, — варить макароны можно по интернету научиться за пять минут. Я спрашиваю всегда: если вы дали им деньги на продукты, а они пошли в магазин и купили вместо этого пепси-колу с шоколадом или сигареты, не купили продукты на ужин и не приготовили ужин или так его готовили, что он получился несъедобным, — они без ужина останутся в этот день? Воспитателей аж кондратий хватает: «Как, конечно нет, это невозможно!». Они не понимают главного: в жизни так устроено, что если ты не приготовил ужин, у тебя просто не будет ужина. Никто не будет тебя воспитывать, никто не будет тебе читать нотаций — просто не будет, и все.
Ответственность не наступает вообще. Если ребенок порвал или испачкал майку, он ее снимает и выбрасывает в окно. Потом он завхозу скажет: «Потерял» — и завхоз вытащит другую. Для него это какой-то непонятный и бездонный источник, который выплюнет очередную майку. И все эти благотворители, которые приезжают с подарками, — потом волонтеры рассказывают, как дети в футбол играют конфетами и ходят с хрустом по мобильным телефонам. У ребенка есть фантазия, что он — бедная сиротка и мир устроен так, что все ему должны.
Психологи удивляются представлениям о жизни детей из детских домов. Дети говорят: я буду жить в большом доме, и у меня будут слуги. А они так и живут — в большом доме, где у них слуги. Потому что сейчас санэпидемстанция запретила все: они не могут участвовать в приготовлении пищи, они не могут стирать.
Безумие, просто безумие: дети не могут отвечать сами ни за кого, у них самих ноль процентов свободы и сто процентов гарантии. Потом они вырастают, и в один день все меняется. Им выдают на руки сберкнижку, на которой двести-триста тысяч рублей. Никакого опыта саморегуляции у них нет. Они за неделю по ресторанам, по саунам эти все деньги прогуливают. И, как подсказывают им все предыдущие восемнадцать лет жизни, ждут продолжения банкета, а оно не наступает. Ну а дальше начинается криминальная история. Все наши программы, которые чаще всего сводятся к накачиванию деньгами, это положение только укрепляют. В Москве, например, если выпускник детского дома после училища не нашел сразу себе работу (да они и не ищут, потому что лучше сказать, что не нашел), он может пойти на биржу труда, зарегистрироваться там, и как выпускник детского дома он будет полгода получать за то, что не работает, какую-то очень немалую сумму — сорок пять, что ли, тысяч ежемесячно. Потом полгода кончаются. И выясняется, что с завтрашнего дня правила меняются, он должен работать по восемь часов на неинтересной — а откуда интересная? — и малоприятной работе за пятнадцать тысяч. Кто бы захотел. Они начинают искать другие варианты. Поэтому детский дом — это дорогой самообман общества, он жрет безумные деньги — от сорока пяти до ста десяти тысяч рублей на ребенка в месяц — и уродует детей.
Единственное, что наше государство умеет, — контролировать. Говорят же, что у нас страна победившего Паркинсона. Система контроля начинает работать сама на себя. Сейчас учителя смеются, что школа превратилась в место, где дети мешают учителям работать с документами для вышестоящих инстанций. Опекуны и приемные родители, если получают пособие, должны отчитываться о своих расходах. Не просто чеками, а чеками из супермаркетов, где написано название товара. И на полном серьезе сидят люди с карандашом и чеки, за месяц собранные, строчка за строчкой проверяют: не попались ли там где-нибудь сигареты или пиво? В этом нет никакой необходимости, и это создает трудности множеству людей.
Ребята, мы вкладываем душу в сайт. Cпасибо за то,
что открываете эту
красоту. Спасибо за вдохновение и мурашки.
Присоединяйтесь к нам в Facebook
и ВКонтакте
Семья - это самое важное в жизни человека.
сайт в День защиты детей решил рассказать о малышах, у которых нет именно этого самого важного. Давайте будем помнить и всячески помогать таким очень сильным маленьким человечкам.
- Первый курс, зима. Мне как активисту предложили побыть Дедом Морозом в детдоме.
Выучил пару стишков и игр, надел костюм, приклеил бороду и думал, что я готов. Нет, черта с два, к этому невозможно быть готовым. Ибо когда я пришел, дети кричали, что я ненастоящий (думал, это провал). Когда пришло время подарков, каждый ребенок, рассказав стишок, на ухо шептал желание на следующий год: найти маму и папу или чтобы они нашли их. Все дети без исключения просили об этом. После утренника молча курил и плакал.
- Часто бывала в детдоме. Дети меня многому научили, была хорошая мотивация. Но один случай я запомню навсегда. Как-то просто сидела в коридоре. Из-за угла появляется мальчик с женщиной, похоже, мамой, что приехала его проведать. И в подарок она привезла... упаковку лапши «Роллтон». Но этот мальчик светился от счастья, ведь с ним рядом была мама. А у нас айфоны не того цвета - и сразу скандал.
- Мы с моим братом-близнецом остались круглыми сиротами и до 5 лет жили в детдоме. Потом нас забрали разные семьи. Я помню не так много о брате, зато наш последний день помню во всех подробностях: мы спрятались в огромном ящике для игрушек и со слезами и улыбками рассказывали друг другу, как будем дальше жить и кем станем. Обещали, что друг друга найдем.
Прошли годы. В детдоме не дают информации о нем - не имеют права, сама найти его не могу. Заканчиваю школу и иду учиться на морского биолога, потому что тогда, сидя в этом ящике, говорила, что стану именно им. Верю, что, если устрою жизнь, как планировала тогда, непременно встречу брата. Мне ничего от этой жизни не нужно, только бы его найти.
- Детдом. Я прохожу по коридору, заглядывая во все спальни. Тихо, все еще спят. Последние спокойные минуты моего рабочего дня. Захожу в комнаты, отдергиваю шторы, включаю нижний свет. Мальчишки начинают ворочаться, поднимают встрепанные головы, кто-то уже поднялся. В одной из спален мальчишка «заправляет кровать» одной рукой, сидя на ее краешке и не открывая глаз. Недовольное ворчание друг на друга в коридоре и туалете. Кто-то из детей, выйдя из спальни, подходит ко мне и утыкается носом в бок. Он стоит так несколько секунд, стараясь удержать сонное оцепенение:
- Доброе утро, мам.- Помогал отвезти знакомым подарки от неравнодушных людей для малюток в детский дом. Сам не при делах, чисто как водитель. Но не передать взгляда и чистоты радости детей! Играл с ними, был великаном, а они гурьбой нападали.
Уезжать было сложнее всего. Меня это так сильно задело, что я, взрослый мужик, вернувшись домой, ревел весь вечер. Теперь много думаю. Буду помогать детям, чем смогу.
- Знакомая до самой пенсии работала в латвийском роддоме. Рассказала, что многократно умерших после родов детей меняла на детей, от которых отказались родители. Вела список. В течение 42 лет с 1963 по 2005 она спасла от детдома 282 ребенка. На вопрос, не жалеет ли она о том, что нарушала закон, она ответила: жалеет о том, как мало успела сделать.
И я - один из этого списка.
- В детдом приехали журналисты. В коридоре воспитателя тотчас обнимают дети: «Татьяна Юрьевна, к нам сегодня приедут спонсоры или меценаты, то есть кандидаты или депутаты?» Ребята не видят особой разницы, но понимают: сейчас будет концерт, а потом всем раздадут игрушки и угостят конфетами. Самый популярный вид благотворительности - приехать ненадолго, устроить праздник, подарить подарки, поднять настроение. И уехать, оставив все как есть.
- Эту историю я услышала от работников посольства Испании. Жила состоятельная семья и уж очень хотелось им внуков. Но дочь и сын не торопились заводить детей. И как-то раз смотрели они передачу по телевидению («Пока все дома»), а там показывали историю мальчика-сироты. И тут услышали они, что фамилия у мальчика такая же, как у них. Решили, что это судьба, и усыновили ребенка. Теперь счастливо живут все вместе в Испании в своем доме.
- Мой молодой человек работает барменом в известном заведении. Там фейс-контроль и строго нельзя приходить с детьми. Вчера рассказал, что до начала смены в бар зашла девочка лет 6, попросилась в туалет. Разрешил ей сходить, и тут за ней целая вереница малявок пришла. Выяснилось, что дети из детдома, на экскурсии. Мой сердобольный пригласил всех ребят в бар вместе с руководителем, со всеми поболтал и газировкой бесплатно напоил. Воспитательница ему шоколадку потом занесла.
- Подобрал на вокзале мальчишку лет 12. Сбежал из детдома, попрошайничал, скитался. Накормил, отмыл. Мальчишка оказался умницей и чистюлей. Понял, что не могу просто так вернуть его в детдом. Договорился забирать на выходные. Потом он стал оставаться у меня и на неделе. Знакомые и друзья осуждали. С пацаном тоже всякое бывало. И ссоры, и крики «Ты мне не отец!» А когда настало время получать паспорт, он взял мои отчество и фамилию. Я воспитал хорошего сына.
- Собирала помощь в детский дом. Приехали туда с игрушками, вещами, сладостями. Долго общались с детками, играли. Когда собирались уезжать, ко мне подошла девочка лет 12 и сказала: «Так мне нравится, что вы к нам приехали. Люблю, когда к нам приезжают пообщаться, а не просто сфотографироваться, а потом забрать назад игрушки и уехать ».
- Помогал отвезти знакомым подарки от неравнодушных людей для малюток в детский дом. Сам не при делах, чисто как водитель. Но не передать взгляда и чистоты радости детей! Играл с ними, был великаном, а они гурьбой нападали.
Инструкция
Миф первый: в детских домах живут только сироты. На самом деле сирот, т. е тех, у которых умерли родители, в приютах не так много от общего количества . Больше всего в детских домах детей, оставшихся без попечения родителей. Что ? Это значит, что мама (реже папа, если имеется) лишена родительских прав или ограничена в них. Лишают родительских прав по решению суда, и причинами могут стать: ненадлежащий уход за ребенком, пьянство или наркомания родителей, тяжелая болезнь, нахождение в местах лишения свободы. Но сначала родителей ограничивают в правах и детей изымают из семьи, давая время решить свои проблемы. Если же мама продолжает жить маргинальной жизнью, ее лишают родительских прав, а ребенка определяют в сиротское учреждение.
Миф второй: в детских домах процветает жестокость. Эта информация пошла от появляющихся время от времени в СМИ статьях об избиениях воспитанников сверстниками или персоналом. Здесь, конечно, есть доля правды, но массового явления подобные вещи не имеют. Очень многое зависит от руководства сиротских учреждений, от персонала, от того, там находится. Есть небольшие, « » приюты, в которых детей не больше 40, а значит, каждый ребенок находится под присмотром и к каждому применяется индивидуальный подход. Чаще всего неприятные инциденты случаются в коррекционных детских домах, дети с теми или иными нарушениями психики. А значит, конфликтов не избежать.
Миф третий: в детские дома плохо финансируют. Детские дома сейчас имеет подушевое финансирование, как и . Получается, чем больше детей, тем больше денег. И деньги выделяются неплохие. Но если, допустим, в детском доме надо провести дорогостоящий ремонт, дополнительные средства можно найти только во внебюджетных источниках – благотворительных фондах, некоммерческих организациях. Или же придется урезать детей, например, в питании или . Поэтому, руководство сиротских учреждений активно сотрудничают с волонтерами. Но поскольку деньги выделяются из федерального и регионального бюджета пополам, благосостояние детских домов в экономически депрессивных регионах сильно разнится с финансированием в Москве и области не большую сторону.
Миф четвертый: детей активно усыновляют иностранцы. На самом деле процент иностранных усыновителей сопоставим с процентом усыновителей из России. Просто иностранцам дают детей с тяжелыми заболеваниями, которых отечественные усыновители не берут только потому, что лечить таких детей у нас негде. И иностранцам отдают детей только под усыновление (удочерение), тогда как в России ребенка можно в приемную семью или под опеку.
 staterenta.ru Виды макияжа. Материалы. Лицо. Форма бровей.
staterenta.ru Виды макияжа. Материалы. Лицо. Форма бровей.